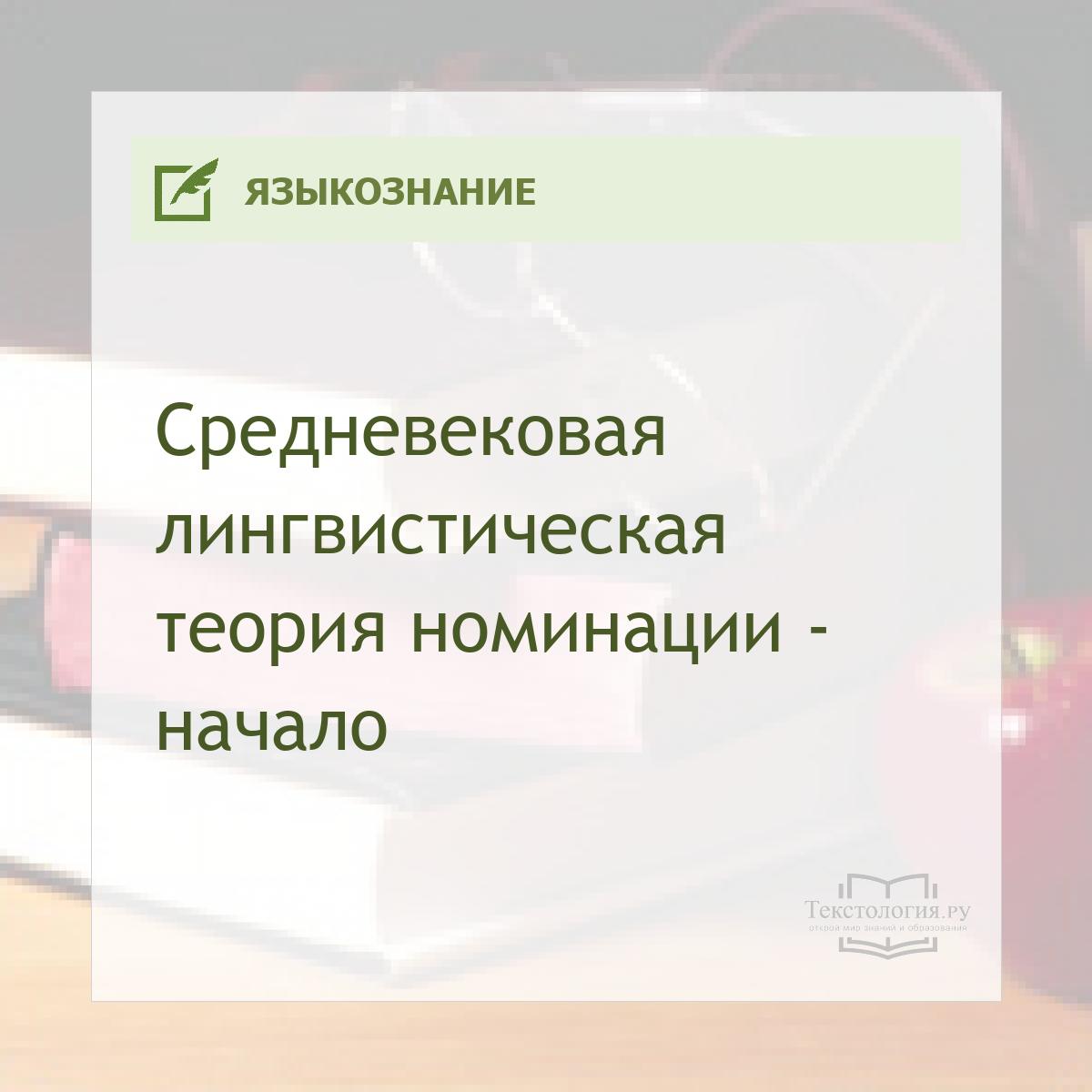
Средневековая философия языка не была атомистичной, мысль всегда сосредоточивалась не на языковом знаке, а на системе. Понимание природы языкового знака определялось пониманием природы языка. Если язык — «некий род движения», если его источник — способность человека к творчеству (эпиноиа), то каждый знак порождается тою же способностию; если теологи говорили, что «человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка», то это справедливо в отношении целого и в отношении части.
Если, согласно христианской онтологии, окружающий мир обладает объективным существованием независимо от именуемого субъекта равно как и означающих звуков, то никакое имя уже не может мыслиться неотъемлемой частью именуемого орудием господства, управления именуемым: весь мир есть то, что он есть в силу его сотворенностн таковым, а не в силу его познанности и названности: мир здесь первичен, он существует до имени, до именующего и независимо от них.
Между объектом и его именем неизменно стоит тот, единственно ради кого знак существует, — установитель и интерпретатор знака, человек. Всякий знак связан не непосредственно с сущностью именуемого, а с тем, что в этой сущности познано и названо человеком. Только поэтому у заведомо несуществующих построений человеческой фантазии, каких-нибудь многоруких, многоглавых драконов, дышащих пламенем, говорящих человеческим голосом, тоже есть имена, ничем не отличающиеся от всех прочих знаков: ведь человек может изобретать как полезное, так и вредное, именовать как истинное, так и ложное, источник любого творчества один — разумность.
Для понимания средневековой теории имени весьма показательно отношение к имени собственному, которое в мифо-символической картине мира признается наиболее типичным, истинным именем. Не случайно диалог Платона «Кратил» начинается с рассмотрения имени собственного.
Ортодоксальные средневековые авторы не усматривали в имени собственном ничего сверхъестественного, ничего оккультного.
Имя может быть дано случайным человеком по случайному признаку, но тем не менее оно остается истинным именем, будет выполнять все свои функции, не отличаясь ни в чем от любого иного имени. Так, Григорий Нисский писал, ссылаясь на Библию, что имя «Моисей» было дано еврейскому пророку чужестранкою — дочерью фараона, когда она нашла его на берегу реки, ибо «Моисей», пояснял Григорий, родственно слову «вода» на египетском языке. Вполне вероятно, что у мальчика было и другое имя, данное ему при рождении родителями, со слоном «вода» никак не связанное, но случайно новое прижилось, попало и Писание, его употребляют все люди, Даже сам бог, как сообщает Библия, не погнушался звать пророка этим именем, какое еще доказательство его истинности требуется?
Подобным же образом по случайному признаку получили имена другие пророки и патриархи, продолжает Григорий, таковы же и многие топонимы, упоминаемые в Библии. Одним словом, это можно сказать обо всем видимом на небе и на земле, о морях и рыбах, о зверях и птицах, о звездах, странах, яйцах, народах. Звезда и созвездия названы именами «эллинского басносложения». Разве мог бог дать эти поганые имена? Но некоторые из них попали даже и Библию, в книгу пророка Исаии, в книгу Иова, значит это их имена. А если кто скажет, что у звезд есть иные, тайные имена, которые неведомы человеку, тот блуждает далеко от истины.
«Ложь говорит тот, кто умствует, будто из различия имен должно заключать и о различии сущности. Ибо не за именем следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей. Иначе, если бы первое было истинно, то надлежало бы согласиться, что которых вещей названия одинаковы, тех и сущность одна и та же».. Легко усмотреть, что Василии Кесарийский прибегает в данном случае к доводам защитников теории имен «по установлению», известным еще со времен Демокрита.
Не только личные имена простых людей или пророков не заключают в себе таинственного смысла, суть просто слова обычного человеческого языка, но таковы, по учению ортодоксальных авторов, и слова, которые во все времена в различных культурных и религиозных ареалах признавались особо важными, выделялись и отдельную группу, табуировались, — имена божии.
Не вдаваясь специально в эту сложнейшую проблему типологического сопоставления мировых религий, укажем только, что средневековые христианские теологи обходят молчанием широко распространенные в эти века сказания о чудесах, снизанных с именем божиим, которое обладает ипостасным бытием и чудесными свойствами, простое произнесение которого способно убить и тут же воскресить, которое является в ослепительном блеске и ужасающем громе.
Если у исследователей античных теорий именования принято отмечать, что в любой культурной традиции (китайской, индийской или греко-латинской) теория именования в принципе одна и та же как по своему назначению, так и по своим результатам, смысл ее везде однороден, то в Средние века эта теория в разных ареалах диаметрально противоположна. Было бы ошибкой переносить на средневековую теорию номинации, как это иногда делается, выводы из довольно поверхностного и тенденциозного сопоставления первой и второй главы книги Бытия, данного протестантской теологией прошлого века и повторенного В. Томсеном.
«Место языка в мифологической картине мира определяется не наличием тех или иных повествований о языке, а той ролью, которая приписывается языку в системе мышления, создававшей мифы»,— писал И. М. Тронский. При этом он отмечал два основных аспекта мифологического подхода к языку: во-первых, имя вещи мыслится неразрывно связанным с самой вещью и признается ее неотъемлемой частью.
Каждая вещь — единый целостный комплекс, от которого не абстрагируются отдельные элементы, в том числе имя; имя не существует вне вещи, и совершая какие-либо операции над именем, мы воздействуем на вещь, подчиняя ее нашей воле; наряду с убеждением в том, что обыденные слова родного языка в основном являются «настоящими» именами вещи, некоторые имена выделяются как особо значительные; во-вторых, в мифологической системе всякий процесс мыслится по аналогии трудовых процессов, вещь представляется существующей потому. что некто в некоторое время эту вещь «сделал» или «нашел»; для всякой мифологии характерны сказания о «происхождении» той или иной вещи, о «героях-изобретателях», слова, имена, также нуждаются в изобретателе.
Средневековая теория номинации, во-первых, всегда ставила между именем и именуемым человека, именующего, во-вторых, строила иерархию «правильности» имен в обратном порядке к мифологической теории. Слова, которые нередко выделялись в других культурных регионах как наиболее значительные, — имена сверхчувственных сущностей здесь трактовались как условные знаки в первую очередь, ибо, объясняли теологи, сверхчувственное вообще не имеет прямого и собственною наименования, не может быть адекватно познано через слово. Ведь слова сами по себе вообще относятся к конечному и временному, поэтому «сущности горнего мира безымянны в любом языке». Пределом неименуемости является бог.
Если в мировоззрении, которое И. М. Тронский называет мифологическим, слово, имя принадлежит не только (и не столько) сознанию, но и бытию, является неотторжимой частью именуемого, его глубинной тайной, то для создателей христианской догматики оно есть знак или символ какой-то сущности, а не ее часть; оно — элемент вторичной системы, от которой существование самого именуемого не зависит, ибо для всех ясно, что «никакое имя само по себе не имеет существенной самостоятельности», но «всякое имя есть некоторый признак (γνώρισμα) и знак (σημ,δίον) какой-либо сущности и мысли, сам по себе и не существующий, и не мыслимый».
Однако было бы ошибочно полагать, что христианство вообще не знало мифологического подхода к имени, что никто из раннесредневековых мыслителей в период становления догматики не пытался развить широко распространенные в античном мире мифологические трактовки сущности и происхождения имени. Явственные следы их прослеживаются у гностиков и в некоторых направлениях арианства, а в официальной церкви — в «даре языков», глоссолалии. Против учения гностиков и ариан были написаны обширные трактаты, отношение их авторов к всевозможным формам языковой магии ясно видно уже из названий глав: «Нелепость доказательств, заимствуемых еретиками из числ, букв, и слов». «Бог не исследуется буквами, слогами и числами».
Глоссолалия также просуществовала в официальной церкви недолго, никакого «теоретического» обоснования ее мы не знаем, бессмысленное экстатическое «языкоговорение» не очень одобрялось уже в ранней эпистолографии, в дальнейшем оно, широко использованное гностиками и монтанистами, эволюционировало в сторону оргиазма и магии, по существу слилось с языческой мантикой, поэтому церковные писатели стали нередко трактовать глоссолалию как одержимость злым духом. Но на периферии, в многочисленных «еретических» течениях, она жила во все века, возвращаясь различными путями в церковь.
Уже ранние апологеты настойчиво утверждали, что по одному имени, помимо действий, которые соединены с именем, точнее, с именуемым предметом пли явлением, нельзя судить, хорошо ли что, или худо. Отношение средневековой теологии к миру и отражению его в слове было достаточно сложным, оно не может быть проанализировано в данной работе, но необходимо еще раз подчеркнуть, что в основе всех средневековых теорий лежал тезис о первичности мира и вторичности слова. «Различие в вещах определяется не тем или иным высказыванием о них, а наоборот, вещи сами определяют то или иное высказывание о себе. Природа вещей остается неизменной, все равно, имеется о них высказывание или нет. Никогда высказывание не изменяет природу вещей», — писал Иоанн Воротнеци. Этот тезис служил краеугольным камнем средневековой онтологии.
Отсюда же следовало важное положение средневековой гносеологии, что познание вещи или явления ни в коем случае не может быть адекватно заменено познанием соответствующего знака, что любой знак по самой своей природе, безусловно, имеет меньшую ценность, чем то, что он обозначает. «Я желаю, чтобы ты понял, что обозначаемые предметы должны быть ценимы более, нежели их знаки. Ибо все, что только существует ради другого, необходимо ниже, чем то, для чего оно существует». При этом были рассмотрены даже такие, казалось бы, парадоксальные случаи, как сравнение относительной ценности слова «грязь» и обозначаемого им вещества, и был сделан вывод, что и здесь, как всегда, первое следует признать вторичным, зависимым, а второе следует предпочесть, оно имеет большую ценность.
Из проведенного сравнения Августин делает такой вывод: «Ты ведь согласишься, что познание вещей дороже, чем их знаки. Поэтому познание вещей, обозначаемых знаками, надлежит предпочесть познанию знаков».
Всякий знак может быть интерпретирован другими знаками: всякое слово — знак, но не всякий знак — слово; языковые знаки по своей информативной силе превосходят все прочие знаки, ибо с их помощью можно объяснить значение всех остальных знаков, обозначить все предметы, все явления, все типы отношений, обратное же, т. е. интерпретация всех языковых знаков с помощью какой-то иной знаковой системы, невозможно. Указание пальцем на стену — знак, но на нее же указывает и слово (в данном случае вербальный и невербальный знаки взаимозаменимы), а звук, запах, вкус, тяжесть, теплота и прочее, относящееся к остальным чувствам, хотя и не ощущаемы без тел и потому сами телесны, пальцем указаны быть не могут, словом же могут.
Одновременно была отмечена еще одна способность слов, отличающая их от неязыковых знаков: они используются как мета-знаки, способны обозначать не только что-то иное, но и самих себя.
А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон — История лингвистических учений — Л., 1985 г.

 |
Означающим языкового знака, согласно средневековым учениям о знаке, является не сам з...
|
 |
15.04.2025
15 апреля в российских городах поднимут Знамя Мира, и работники культуры отметят свой ...
|
 |
14.04.2025
14 апреля исполняется 280 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина – знаменитог ...
|