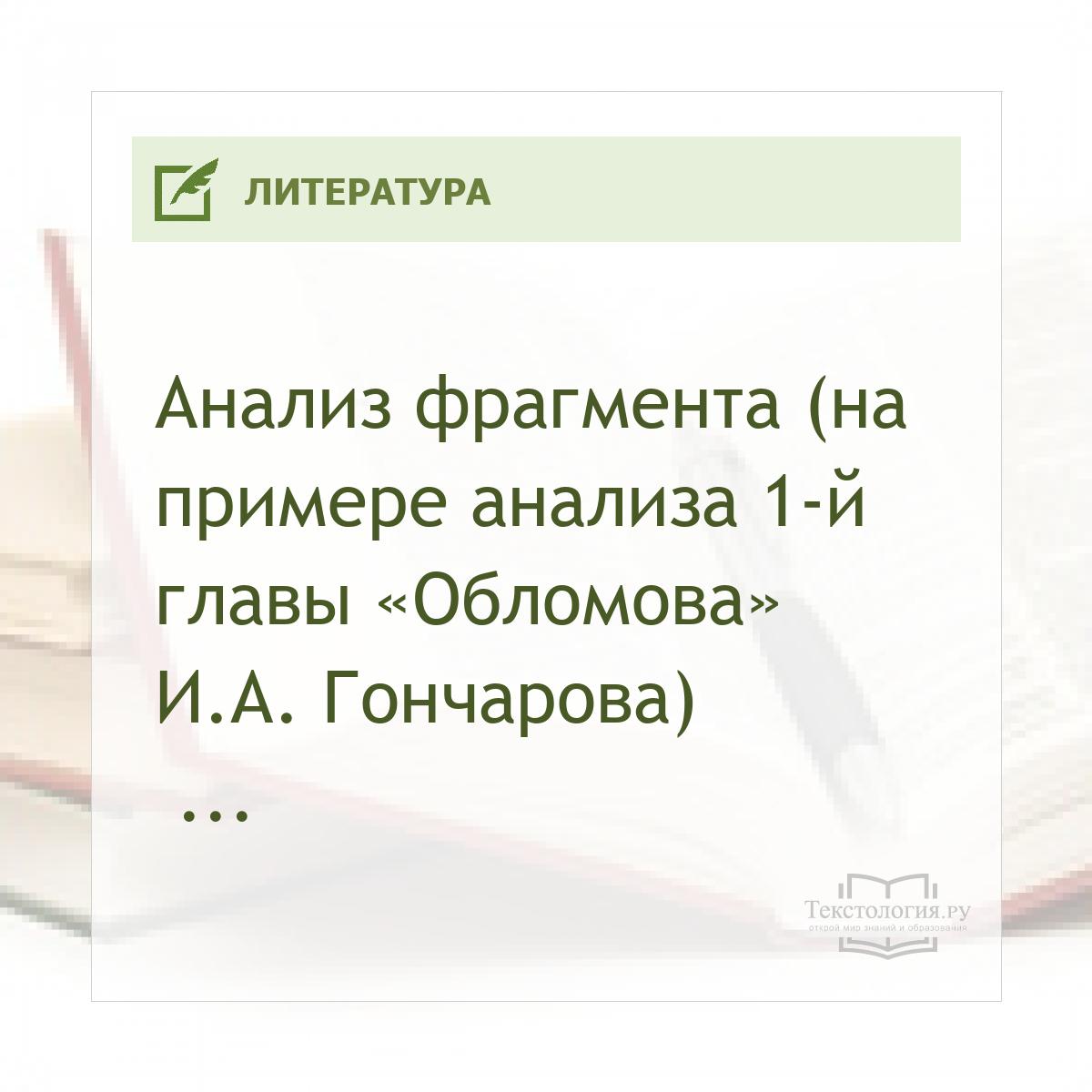
Пожалуй, наиболее глубока в произведении Гончарова оппозиция Природы и Культуры, питающая все другие антиномии романного текста.
В первой главе она лишь едва намечена. С одной стороны, комната Обломова украшена ширмами с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. С другой — Захар является обладателем такой необъятной бакенбарды, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы (уже, надо полагать, настоящие); он выступает своего рода покровителем моли, клопов, блох, мышей (У меня всего много). Природное (паутина, пыль) и культурное (картины, фестоны), соединяясь, создают некий кентаврический образ обломовского существования: По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью.
Уже в болтовне суетного Волкова в следующей главе культура предстает синонимом суеты (...только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...), тогда как апологеты покоя — Обломов и Захар — с первой главы маркированы природным началом. У первого во всем лице теплился ровный свет беспечности, а улыбка второго описана как некое подобие восходу солнца: Захар улыбнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно (от усмехающихся губ до самого лба — очевидное восходящее движение, проникающее даже в лесоподобные заросли бакенбард).
В заключительной главе портрет этого персонажа в свою очередь ассоциирован с закатом: Все лицо его как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка (направление движения — сверху вниз).
Мотив солнца вообще играет в романе ключевую роль. Действие, начинающееся 1 мая, завершается в апреле (судя по отсутствию снега, по одеянию Захара и по тому, что Штольц еще не увез Андрюшу в деревню) и тем самым совершает круг, аналогичный солнцевороту.
Как сказано в одном месте романа, четыре времени года повторили свои отправления. Перипетии жизни главного героя при этом соответствуют смене времен года. Особо значим в этом отношении конец третьей части, где начало зимы (первый обильный снегопад) совпадает со свинцовым, безотрадным сном расставшегося с Ольгой, обрядившегося в прежний халат и тяжело заболевающего Обломова.
Центральный персонаж романа, которому чужд романтический лунатизм любви, который в предпоследней главе прямо назван солнцем Агафьи Матвеевны, явственно соотнесен со своим любимым светилом:
Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова.
Устремив печальный взгляд в окно, к небу, (герой. — В. Т.) с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом.
И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!
Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты!
Но солнечность (природность) Обломова постоянно наталкивается на препятствия культурно-урбанистического происхождения: тот же четырехэтажный дом, загораживавший картину заката на прежней квартире, или длинное, каменное, казенное здание, мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта лени и спокойствия на Выборгской стороне.
Штольц, правда, отождествляет солнечный свет с культурными преобразованиями: Обломовка не в глуши больше <...> на нее пали лучи солнца! <...> Года через четыре (внесакральное число 4 отсылает к четырехэтажному дому — урбанистической помехе природному солнечному свету) она будет станцией дороги <...> А там... школы, грамота, а дальше... Но в идиллическом сне главного героя Обломовка уже изначально была залита и пронизана настоящим, природным солнцем.
Очевидно значимым является возраст героя в начале романа: Это был человек лет тридцати двух-трех от роду. Иначе говоря, Обломова мы застаем на пороге возраста Христа — лиминального (порогового, пограничного) возраста символической смерти и преображения (воскресения в новом статусе). Эта лиминальная символика, через посредство волшебной сказки уходящая корнями в ритуально-мифологический комплекс инициации и обнаруживаемая в основе множества сюжетов мировой литературы, весьма часто манифестируется свадебным комплексом мотивов.
Данный вариант мы имеем и в романе Гончарова, где с самого начала Захар характеризует результат своих мнимых трудов так: Прибрано, словно к свадьбе. Чуть позже Илья Ильич восклицает: Ведь есть же такие ослы, что женятся!
Однако обещаемого Штольцем (через неделю ты не узнаешь себя) и предполагаемого самим Обломовым (Ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту!) преображения так и не происходит. После разрыва с Ольгой, объявляющей обломовскую смерть (все бесполезно — ты умер!), и пробуждения в полдень (еще одно проявление солнечного цикла) от свинцового, безотрадного сна наступает воскресение Ильи Ильича (— Сегодня воскресенье, — говорил ласково голос...), но не в новом, а в прежнем качестве (все в том же неизменном халате, который только вымыли и починили). И Пшеницына становится женой Обломова без переходности свадебного обряда.
В финале третьей части Обломов возвращается к своему исходному состоянию первой главы, что в известном смысле оказывается основным итогом его романной судьбы. Ибо часть четвертая (начатая словами, знаменующими очередной солнцеворот: Год прошел со времени болезни Ильи Ильича) представляет собой лишь своего рода развернутый эпилог. Итог этот, как и все в романе, амбивалентен.
На первый взгляд несостоявшаяся перемена статуса свидетельствует о духовной гибели персонажа. Так это и расценивается Штольцем, уже второй раз (после Ольги) провозглашающим обломовскую смерть: — Погиб!.. Что ж я скажу Ольге?
Однако текст повествователя даже после сообщения о физической смерти героя именно духовную его смерть как раз и отрицает. Вслушаемся: Что же стало с Обломовым? Где он? Где? — На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело... Местонахождение тела, разумеется, — далеко еще не полный ответ на столь эмфатический вопрос.
С другой стороны, каково качество того преображения, что должно было случиться с Ильей Ильичем, вдруг предположившим: И я уеду отсюда женихом? Ольга с ее говорящими бровями (в противовес безбровости Агафьи) мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем. В последнем разговоре она строго спрашивает Обломова: Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно?
Трудно признать такую перемену статуса однозначно позитивной для того, кто по ее же характеристике добр, умен, нежен, благороден. Авторская ирония окрашивает и следующие слова рокового объяснения: Камень ожил бы от того, что я сделала, — говорит Ольга, которую повествователь только что саму сравнил с каменной статуей.
Если культура (в лице Штольца и Ольги) жаждет обновления и преобразований, переделок, усовершенствований объективно данного в направлении субъективной заданности, то природа несет в себе импульс сохранения и возобновления своих отправлений. Природный человек Обломов адресует возлюбленной, оживлявшей и переделывавшей его для себя, крайне значимые слова: Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего.
Так и непреобразившийся на рубеже жизни и смерти Обломов гибнет для Ольги и Штольца, однако становится средоточием и смыслом жизни для Агафьи Матвеевны. После того как она застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна, ей открывается правда о нем и о себе:
Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.
Но, как это обычно бывает у Гончарова, такая правда обломовского существования — лишь одна из правд, на которые дробится не укладывающаяся в одно сознание истина бытия. Миропонимание Штольца также обладает своей резонной правдой, что и позволяет этому герою часто достигать своих целей (но не в случае с Обломовым). Несовместимость же этих правд порождает художественное целое непатетического — иронического типа.
Романтизм открыл широкие возможности использования иронии не только как риторической фигуры текста, но и в качестве архитектоники эстетического объекта. Однако ирония Гончарова противоположна романтической иронии субъекта над объектом; ирония романа «Обломов» — показательный пример объективистской иронии над превратной односторонностью и ограниченностью любой человеческой субъективности.
Тюпа В.И. — Анализ художественного текста — М., 2009 г.

 |
Границы сверхтекстового литературного единства, именуемого циклом, весьма расплывчаты даже в области лирической циклизац...
|
 |
Иллюстрации к перечисленным ступеням градации обнаруживаются, например, в творчестве ...
|
 |
02.04.2025
2 апреля празднуется Международный день детской книги. Традиция отмечать этот знамена ...
|
 |
02.04.2025
2 апреля отмечается 220-летие со дня рождения известного детского писателя Ганса Хрис ...
|